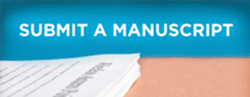Fever: current view on its significance in the COVID-19 era and the people’s attitude to this symptom
- Authors: Najdenkina S.N.1, Ermakova M.K.1
-
Affiliations:
- Izhevsk State Medical Academy
- Issue: Vol 28, No 2 (2025)
- Pages: 315-320
- Section: SHORT COMMUNICATIONS
- Submitted: 31.07.2024
- Accepted: 06.08.2024
- Published: 16.02.2025
- URL: https://rusimmun.ru/jour/article/view/17048
- DOI: https://doi.org/10.46235/1028-7221-17048-FCV
- ID: 17048
Cite item
Full Text
Abstract
Our purpose was to evaluate the scientific data on occurrence of fever in the infectious conditions as well as studying peculiar features of fever in children at pediatric unit with assessment of attitude towards pyrexia among general population. Fever is a general response to infection which occurs across warm- and cold-blooded vertebrates for over 600 million years of evolution. The response to fever is mediated by integrated physiological and neural circuitries and provides a survival advantage during infection. The world experience in fever studies shows an ambiguous effectiveness of combating it, both under septic conditions and non-septic events. In a systematic review of 42 studies conducted by Rumbus Z. and other authors, the mortality rate in patients with sepsis with fever greater than 38 °C was 22.2%, with normothermia – 31.2%, and was highest in patients with hypothermia less than 36.0 °C – 47.3%. That is, fever was associated with reduced, and hypothermia with increased mortality in septic patients. All attempts to achieve improved survival by usage of antipyretics and physical cooling in sepsis have failed. Given the rising mortality rates during the COVID-19 pandemic, we may neglect a key aspect of the immunological response. Higher body temperature inhibits growth of microorganisms, enhances the effects of antibiotics on bacteria in biofilms, improves the survival of neutrophils, stimulates interferon productions. The heat shock proteins have a cytoprotective effect; the pyrogenic cytokines stimulate lymphocyte differentiation and exert other significant effects. However, the mechanisms of switching from pro-inflammatory to anti-inflammatory response as well as the origins of cytokine and septic shock remain understudied. It is important to look at pyrexia from the viewpoint of the body integrity. The continuum theory (unified theory of diseases) suggests that the constant fight against fever and acute inflammation causes a transition from a response to the pathogen to another, first subacute and, later to chronic level of inflammation, which excludes the possibility of acute inflammation being a predictor of ageing.
The presented review of some chronic inflammatory diseases showed this age dependence. In clinical histories, a decreased frequency and severity of fever may be observed during the onset of such chronic diseases as diabetes mellitus, bronchial asthma, chronic headaches, hypertension and post-viral syndrome. This trend suggests a revision of approaches to treatment of acute inflammation in general population. Pediatric patients exhibit the most pronounced fever and have less common chronic diseases overall. However, in recent decades a trend is noted for increase in chronic diseases among children. What is the cause of pediatric fever, and how common is usage of antipyretic drugs and other methods of fever therapy in general population? For this purpose, 300 parents living in the rural areas, and 300 urban parents of children aged 4 to 5 years have been surveyed during the non-epidemic period upon their visit to pediatric polyclinics.
Fever was most often a sign of acute respiratory infection (82.0% of cases); other acute inflammatory conditions were less common. Duration of pediatric fever exceeded 3 days in 77.0% of patients, its grade was < 39% (58.0% of the cases). High febrility was observed in 40.3% of patients and hyperthermia above 41 °С – in 1.7% of children. In the studied cohort, 21.0% had documented diseases; chronic inflammatory diseases were observed only in 9.0% of cases. With pyrexia, 96.3% of parents are anxious, have a fear of fever and use antipyretic drugs and other treatment. Febrile seizures were observed in 3.3% of pediatric patients, other adverse events were observed in 10.3% of respondents. The reported pyrophobia among the population is not justified, since fever in the child population is, generally, a sign of acute infectious disease with high temperature being is a protective reaction. The fight against pyrexia can adversely affect not only the further course of the disease, but also affect the health condition in the future, actively interfering with serious pathogenetic mechanisms.
Keywords
Full Text
Введение
Вопросы современных подходов к терапии лихорадочных состояний до сих пор являются актуальной проблемой педиатрии. Согласно определению лихорадка – это защитно-приспособительная реакция организма, считается ключевым фактором врожденного иммунитета, направленного на борьбу с инфекцией. На сегодняшний день нет ясного понимания среди населения и медицинского сообщества механизмов этого процесса, распространена температурофобия. Современные научные данные бросают вызов показаниям к контролю температуры, которые часто используются у остро больных пациентов. Даже при сепсисе положительные эффекты вмешательств по борьбе с лихорадкой противоречивы. В исследовании Lee B.H. сообщает о связи применения жаропонижающих препаратов с худшим исходом среди пациентов с сепсисом [10]. В модели септического шока лихорадочный ответ приводил к улучшению дыхательной функции, снижению концентрации лактата в крови и увеличению продолжительности жизни. Жаропонижающие средства, включая ацетаминофен и внешнее охлаждение, были связаны с более низкими уровнями циркулирующего уровня белка теплового шока плазмы (HSP) 70 были выше в двух группах с лихорадкой, чем в других группах (p < 0,05) [14]. В исследовании достижение лучшего контроля температуры, т. е. его снижения, не было связано с каким-либо улучшением параметров лечения во время пребывания в отделении интенсивной терапии [11]. Известно, что индуцированная нормотермия увеличивает выделение вируса и продлевает выздоровление, увеличивает смертность от пневмонии и снижает эффективность антибиотиков [8, 9].
Пандемия COVID-19 с ее высокой смертностью вынуждает нас задуматься: а не упускаем ли мы из виду ключевой аспект иммунологического ответа в виде лихорадки, ведь это эволюционно выработанный механизм защиты, который может помочь нам в преодолении этой болезни. Есть ряд исследований, показавших, что подавление лихорадки во время вирусных инфекций либо с помощью низких температур окружающей среды, либо с помощью жаропонижающих средств может увеличить заболеваемость и продлить болезнь. При пирексии повышение уровня антидиуретических гормонов приводит к задержке воды, что предупреждает обезвоживание. И кроме всего, лихорадка снижает функцию желудочно-кишечного тракта, перераспределяя энергию на иммунологический ответ, что подчеркивает необходимость согласованной работы с этими физиологическими изменениями [5].
Благотворная роль лихорадки в борьбе с инфекционными заболеваниями хорошо признана и остается частью стандартных учебников по иммунологии [6]. Клиническая иммунология Козлова В.А. и др. указывает, что увеличение температуры является одной из эффективных защитных реакций, так как при повышенной температуре снижается способность ряда бактерий к размножению и, напротив, возрастает пролиферация лимфоцитов. В печени под влиянием цитокинов увеличивается синтез острофазных белков и компонентов системы комплемента, необходимых для борьбы с патогеном, одновременно снижается синтез альбумина. Т. е. на уровне регуляции генов цитокины направляют энергетические потоки для развития защитных реакций. Действие провоспалительных цитокинов на ЦНС приводит так же к снижению аппетита и изменению всего комплекса поведенческих реакций. Более тяжелые случаи характеризуются гипотонией и могут прогрессировать до неконтролируемой системной воспалительной реакции с цитокиновым штормом, требующим реанимационных мероприятий. Важно, чтобы своевременно началась выработка противовоспалительных цитокинов [1].
Тем не менее значение лихорадки (≥ 39 °С) для разрешения и контроля инфекционных заболеваний остается крайне недооцененным в эпоху противомикробных препаратов и вакцин. Практика жаропонижающих средств сильно изменилась за последние 50-60 лет. В клинических рекомендациях по острой респираторной вирусной инфекции у детей при оказании скорой медицинской помощи при лихорадках у детей еще с 2015 года приняты рекомендации к снижению температуры выше 39,0-39,5 °С. Тем не менее температурофобия широко распространена среди общественности и медицинского персонала несмотря на множество теоретических, практических и экспериментальных доказательств обратного во всем мире [4, 13, 15]. Рациональное использование жаропонижающих средств, возможно, еще больше сократилось во время пандемии COVID-19 в связи с публикацией различными национальными агентствами, в том числе МЗ РФ противоречивых руководств, предлагающих к снижению температуру 38,0-38,5.
Чаще всего при лихорадке мы опасаемся фебрильных судорог, однако степень тяжести приступа не зависит от степени пирексии, быстрое повышение температуры не увеличивает риск развития судорог, и при наличии семейного отягощенного анамнеза судороги могут возникнуть и при невысокой температуре. Антипиретики улучшают самочувствие ребенка, но не влияют на тяжесть приступа [2].
При инфицировании такими РНК-содержащими вирусами, как SARS-CoV-2, запускаются сигнальные пути врожденных иммунных реакций. Нисходящие сигнальные каскады при пирексии вызывают выработку цитокинов – интерферонов, интерлейкинов и фактора некроза опухоли альфа (TNFá) 10. Фактор некроза опухолей – это целая суперсемья из 19 цитокинов, разрушающих клетки опухолей в связи с развитием ими спасительного воспаления, апоптоза и некроза [3].
B обзоре Sharon S. Evans [7] подчеркивает неожиданное многообразие ролей пирогенного цитокина интерлейкина-6 (IL-6), как во время индукции лихорадки, так и во время мобилизации лимфоцитов в лимфоидные органы, которые являются плацдармом для иммунной защиты. Обсуждаются появляющиеся данные, свидетельствующие о том, что адренергические сигнальные пути, связанные с термогенезом, формируют функцию иммунных клеток.
Организм человека как единое целое борется за поддержание гомеостаза. Он запрограммирован в стремлении поддерживать гомеостаз реагировать как целостная система и запускать необходимые воспалительные процессы, в том числе вызывать повышение температуры тела. Существует теория континуума (единая теория болезней), которая утверждает, что подавление эффективного острого воспаления является одним из механизмов, ответственных за возникновение хронического вялотекущего воспаления, и при наличии хронического воспаления организм не способен к эффективной острой воспалительной реакции на патогенные стимулы [12]. В обзоре представлены данные изучения анамнеза 927 случаев хронических воспалительных заболеваний. В первую пятерку выявленных состояний вошли аллергии (всех видов, рассматриваемых вместе), хронические головные боли (включая мигрень, кластерную головную боль и психогенную головную боль), сахарный диабет, гипертония и синдром хронической усталости / поствирусный синдром. Была обнаружена тесная связь между увеличением возраста и уменьшением острого и хронического воспаления (статистика хи-квадрат 51,26; p < 0,00001). В большинстве случаев наблюдалось явное увеличение острых воспалительных состояний по мере улучшения хронических заболеваний. Выявлено, что аллергические состояния чаще связаны с острыми воспалительными состояниями, чем с другими хроническими состояниями, а значит, являются менее серьезными состояниями, чем другие приведенные заболевания. Это ретроспективное исследование показало сильную связь уменьшения количества одновременных острых и хронических воспалительных состояний с возрастом, а также указало на возможную взаимоисключаемость эффективного острого и хронического воспаления. Так, при метаанализе историй болезни до начала рассеянного склероза 94% людей имели в анамнезе повторные острые инфекции, из них 80% злоупотребляли антибиотиками, у 93% из них уже не было высокой температуры, если она вообще была. В 5 исследованиях, посвященных сахарному диабету, хроническим головным болям и астме, а также хроническим заболеваниям в целом, было обнаружено, что начало хронического воспалительного заболевания было связано со снижением острых инфекций и лихорадки, если лихорадка была; в анамнезе преобладали рецидивирующие острые инфекции, но сопутствующими заболеваниями были другие хронические воспалительные заболевания; при улучшении хронического воспалительного заболевания происходил возврат острых воспалительных заболеваний. Поскольку старение представляет собой вялотекущий хронический воспалительный процесс, возможно, что хроническое воспаление препятствует эффективному острому воспалению, что указывает на необходимость пересмотра способов лечения острого воспаления в популяции.
Материалы и методы
С целью анализа характера лихорадок у детей и выяснения отношения населения к ним мы провели опрос родителей. Было анкетировано 300 родителей на педиатрическом участке в селе и 300 в городе в неэпидемический период (грипп и COVID-19), имеющих детей в возрасте от года до 16 лет и находившихся на приеме в детской поликлинике. Среди них преобладали девочки (63,0%) преимущественно 4-5 лет (55,0%), поскольку частоболеющие дети чаще встречаются именно в этот возрастной период.
Результаты и обсуждение
Острые респираторные инфекции были основной причиной лихорадки (82,0%), реже это были острые кишечные инфекции (12,0%), отиты (3,3%), пневмония (1,3%), инфекция мочевыводящих путей (1,0%) и прочие состояния. Повышение температуры тела, по мнению опрошенных, является нормальной реакцией организма (61,0%), 28,0% считают ее патологическим состоянием, а 11,0% – затруднились с ответом. Однако лихорадка всегда вызывает страх у родителей независимо от времени суток – у 45,0%, но преимущественно, если возникает ночью (55,0%), что не вызывает удивления, так как лихорадка – всегда признак заболевания. Длительность лихорадки у 77,0% детей не превышала трех дней, 23,0% сталкивались с лихорадкой 4-5-дневной и более, возможно, связанной с определенными возбудителями и с осложнениями ОРИ. Степень ее у большинства пациентов не превышала 39,0° (58,0%), но значительная часть детей сталкивалась с высокой фебрильной температурой – более 39 °С (40,3%), были ситуации и гипертермии с уровнем 41 °С (1,7%). С одной стороны, высокая фебрильная температура и гипертермия являются показателем хорошего уровня иммунореактивности, с другой стороны, признаком определенных возбудителей (грипп, вирус Эпштейна–Барр, другие герпес-вирусы), а иногда – признаком серьезного заболевания (гранулематозная болезнь, лимфопролиферативные заболевания и др.). Следует отметить, что среди анкетированных на учете с каким-либо заболеванием состояли 21,0% детей. Они имели заболевания и наблюдались у невролога (ПП ЦНС) и аллерголога (бронхиальная астма и аллергический ринит) по 6,0% пациентов, у нефролога, пульмонолога и эндокринолога – по 3,0%, у гематолога (доброкачественная нейтропения, тромбоцитопения, лейкопения) и кардиолога (врожденные аномалии и пороки) по 1,0% опрошенных соответственно. Отдельно выделили категорию детей с температурой не выше 37,8 °С – 3,7% детей, которая, несмотря на отсутствие опасений у родителей, должна рассматриваться как группа иммуно-компрометированных детей либо с уже имеющимся хроническим заболеванием, либо в группе риска на хронизацию.
Чаще всего родители не дожидались высокого фебрилитета и получали рекомендацию к снижению пирексии выше 38,5 °С (93,3%), и лишь 6,7% – выше 39,0 °С. Отмечался субфебрилитет после 1-3 дней высокой температуры чаще у 50,0% опрошенных сроком 2-3 дня, длительностью 4-5 дней у 34,0%, 6-7 дней – у 16,0% детей. Учитывая агрессивное ведение лихорадки с применением жаропонижающих (96,3% опрошенных), физических методов охлаждения (55,0%), применения клизм с охлаждающим веществом (12,0%), вероятно, такой длительный субфебрилитет связан со снижением иммунной защиты, персистенцией вируса и формированием подострого воспаления. В основном лихорадка проявляется вялостью и сонливостью (78,0%), головной болью (19,5%) и ознобом (12,2%), иногда это возбуждение (8%), боли в животе (4,9%). Дети при этом требуют внимания, горячие на ощупь (44,6%), не едят и мало пьют. Родители чаще всего боятся при лихорадке неврологической симптоматики в виде судорог (46,7%) и обезвоживания (8%), а также бреда, потери сознания, остановки дыхания и отека мозга (по 3% соответственно). Фактически с фебрильными судорогами наблюдались 3,3% опрошенных, другие нежелательные явления (обезвоживание, сильные головные боли, боли в животе, одышка) лишь у 10,3% респондентов. В борьбе с лихорадкой используется ибупрофен (60,5% случаев), парацетамол (31,7%), их комбинации и другие препараты (ибуклин, нимесулид) – 8,9%. Данные препараты родители приобретают 2-3 раза в год в 53,3% случаев!
Заключение
Таким образом, опрос показал, что у родителей много страхов по поводу лихорадки. Самое нежелательное время возникновения – ночь, когда увеличивается количество вызовов на службы скорой медицинской помощи (68,0% против 32% дневных вызовов) и прием жаропонижающих становится беспорядочным. Полученные данные совпадают с общемировыми, но требуют от нас повышения информированности населения о риске персистирования инфекций и возникновения хронических заболеваний при чрезмерной борьбе с лихорадкой. Остаются актуальными вопросы деления лихорадок на «розовый» и «бледный» тип, так как чаще всего «бледный» тип определяется в первую стадию лихорадки и не представляет угрозу, в отличие от «бледной» лихорадки в сочетании с шоком. Представляет интерес изучение иммунологических сдвигов при актуальных инфекциях, в том числе COVID-19 при «бережном отношении» к лихорадке, чтобы быть готовым к новым угрозам.
About the authors
S. N. Najdenkina
Izhevsk State Medical Academy
Author for correspondence.
Email: najdenkina@yandex.ru
PhD (Medicine), Associate Professor, Department of Outpatient Pediatrics and Propaedeutics of Childhood Diseases
Russian Federation, IzhevskM. K. Ermakova
Izhevsk State Medical Academy
Email: najdenkina@yandex.ru
PhD, MD (Medicine), Professor, Head, Department of Outpatient Pediatrics and Propaedeutics of Childhood Diseases
Russian Federation, IzhevskReferences
- Козлов В.А., Савченко А.А., Кудрявцев И.В., Козлов И.Г., Кудлай Д.А., Продеус А.П., Борисов А.Г. Клиническая иммунология. Красноярск: Поликор, 2020. 386 с. [Kozlov V.A., Savchenko A.A., Kudryavtsev I.V., Kozlov I.G., Kudlay D.A., Prodeus A.P., Borisov A.G. Clinical immunology. Krasnoyarsk: Polikor, 2020. 386 p.
- Пивоварова А.М., Шабельникова Е.И., Горчханова.З.К. Фебрильные судороги: диалог педиатра и эпилептолога // Практика педиатра, 2021. № 1. [Электронный ресурс]. Режим доступа: . [Pivovarova A.M., Shabelnikova E.I., Gorchkhanova.Z.K. Febrile seizures: a dialogue between a pediatrician and an epileptologist. Praktika pediatra = Pediatrician’s Practice, 2021, no. 1. [Electronic resource]. Access mode: (In Russ.)]
- Хаитов Р.М., Гариб Ф.Ю. Иммунология. Атлас. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. С. 100-101. [Khaitov R.M., Garib F.Yu. Immunology. Atlas]. Moscow: GEOTAR-Media, 2020, pp.100-101.
- Bakalli I., Klironomi D., Kola E., Celaj E. The management of fever in children. Minerva Pediatr. (Torino), 2022, Vol. 74, no. 5, pp. 568-578.
- Cann S.A.H. Fever: could a cardinal sign of COVID-19 infection reduce mortality? Am. J. Med. Sci., 2021, Vol. 361, no. 4, pp. 420-426.
- Earn D.J., Andrews P.W., Bolker B.M. Population-level effects of suppressing fever. Proc. Biol. Sci., 2014, Vol. 281, no. 1778, 20132570. doi: 10.1098/rspb.2013.2570.
- Evans S.S., Repasky E.A., Fisher D.T. Fever and the thermal regulation of immunity: the immune system feels the heat. Nat. Rev. Immunol., 2015, Vol. 15, no. 6, pp. 335-349.
- Eyers S., Weatherall M., Shirtcliffe P., Perrin K., Beasley R. The effect on mortality of antipyretics in the treatment of influenza infection: systematic review and meta-analysis. J. R. Soc. Med., 2010, Vol. 103, pp. 403-411.
- Jefferies S., Weatherall M., Young P., Eyers S., Beasley R. Systematic review and meta-analysis of the effects of antipyretic medications on mortality in Streptococcus pneumoniae infections. Postgrad. Med. J., 2012, Vol. 88, pp. 21-27.
- Lee B.H., Inui D., Suh G.Y., Kim J.Y., Kwon J.Y., Park J., Tada K., Tanaka K., Ietsugu K., Uehara K., Dote K., Tajimi K., Morita K., Matsuo K., Hoshino K., Hosokawa K., Lee K.H., Lee K.M., Takatori M., Nishimura M., Sanui M., Ito M., Egi M., Honda N., Okayama N., Shime N., Tsuruta R., Nogami S., Yoon S.H., Fujitani S., Koh S.O., Takeda S., Saito S., Hong S.J., Yamamoto T., Yokoyama T., Yamaguchi T., Nishiyama T., Igarashi T., Kakihana Y., Koh Y. Association of body temperature and antipyretic treatments with mortality of critically ill patients with and without sepsis: multi-centered prospective observational study. Fever and Antipyretic in Critically ill patients Evaluation (FACE) Study Group. Crit. Care. 2012, Vol. 16, no. 1, R33. doi: 10.1186/cc11211.
- Markota A., Skok K., Kalamar Ž., Fluher J., Gorenjak M. Better control of body temperature is not associated with improved hemodynamic and respiratory parameters in mechanically ventilated patients with sepsis. J. Clin. Med., 2022, Vol. 11, no. 5, 1211. doi: 10.3390/jcm11051211.
- Mahesh S., Mallappa M., Vacaras V., Shah V., Serzhantova E., Kubasheva N., Chabanov D., Tsintzas D., Jaggi L., Jaggi A., Vithoulkas G. A novel outlook on the correlation between acute and chronic inflammatory states, a retrospective observational authorea. October 14, 2020. doi: 10.22541/au.160269741.18547290/v1. Available at: https://www.authorea.com/users/367060/articles/486635-a-novel-outlook-on-the-correlation-between-acute-and-chronic-inflammatory-states-a-retrospective-observational-study.
- Martins M., Abecasis F. Healthcare professionals approach paediatric fever in significantly different ways and fever phobia is not just limited to parents. Acta Paediatr., 2016, Vol. 105, pp. 829-833.
- Su F., Nguyen ND., Wang Z., Cai Y., Rogiers P., Vincent J.L. Fever control in septic shock: beneficial or harmful. Shock, 2005, Vol. 23, no. 6, pp. 516-520.
- Vicens-Blanes F., Miró-Bonet R., Molina-Mula J. Analysis of nurses’ and physicians’ attitudes, knowledge, and perceptions toward fever in children: a systematic review with meta-analysis. Int. J. Environ. Res. Public Health, 2021, Vol.18, no. 23, 12444. doi: 10.3390/ijerph182312444.
Supplementary files