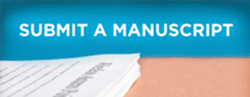Сytometric evaluation of immune cell compartments in patients after penetrating keratoplasty
- Authors: Kuznetzov A.A.1, Bystrov A.M.1,2, Davydova E.V.1,2, Chereshneva M.V.3, Gavrilova T.V.4
-
Affiliations:
- Chelyabinsk Regional Clinical Hospital
- South Ural State Medical University
- Institute of Immunology and Physiology, Ural Branch, Russian Academy of Sciences
- E. Wagner Perm State Medical University
- Issue: Vol 28, No 3 (2025)
- Pages: 837-846
- Section: SHORT COMMUNICATIONS
- Submitted: 18.03.2025
- Accepted: 25.05.2025
- Published: 18.09.2025
- URL: https://rusimmun.ru/jour/article/view/17113
- DOI: https://doi.org/10.46235/1028-7221-17113-CEO
- ID: 17113
Cite item
Full Text
Abstract
The corneal graft rejection, especially in patients from the “high risk” group, is a complex immunological process that remains an urgent problem in ophthalmology. The cornea, despite its immunological privilege, loses its protective barriers under certain conditions (vascularization, inflammation), which leads to the development of immune reaction against the transplant. The key mechanisms of rejection include activation of T lymphocytes (CD4+ and CD8+), as well as an imbalance between effector and regulatory immune cells. Modern methods of immunological monitoring, including analysis of T cell populations, make it possible to detect signs of rejection in a timely manner and adjust therapy to improve long-term transplant results. The aim of our study was to conduct a comparative cytometric analysis of the population and subpopulation composition of blood lymphocytes in patients after end-to-end (penetrating) keratoplasty. The study involved 46 patients who underwent penetrating keratoplasty, being divided into two subgroups: those with transplant rejection (n = 25) and those with successful engraftment (n = 21), as well as a control group of 21 healthy volunteers. The immunological analysis included venous blood sampling and quantitative determination of lymphocyte subpopulations by flow cytometry using a Navios cytofluorimeter (Beckman Coulter, USA) and markers of CD45+ and CD46+ cell populations. Key populations of lymphocytes, including T helper cells, cytotoxic T lymphocytes, NK cells, B lymphocytes, and activated T cells, were studied to identify differences in the immune status of patients. Comparative cytometric analysis of the population and subpopulation composition of peripheral blood lymphocytes in “high-risk” patients with graft rejection showed a number of significant changes manifesting as an increased total number of T lymphocytes, T helper cells, T cytotoxic, T lymphocytes with markers of early and late activation, thus suggesting the key role of T cell-mediated immunity in development of late cellular rejection reactions. The data obtained suggest involvement of systemic cellular mechanisms into rejection of the native corneal allograft, presuming a need for a more detailed study of the T cell response of immune system in this condition. Cytometric assessment of subpopulations of immunocytes makes it possible to identify early signs of immune activation associated with rejection and opens up new opportunities for the development of personalized and effective treatment strategies aimed at improving the transplant outcomes.
Keywords
Full Text
Введение
Современные достижения в области микрохирургии глаза и разработка новых препаратов для подавления иммунной активности позволили значительно повысить эффективность трансплантации роговицы, тем не менее иммуноопосредованное отторжение остается основной причиной утраты оптических свойств трансплантата. Реакция отторжения трансплантата представляет собой патофизиологический феномен, в основе которого лежит нарушение механизмов иммунной привилегии внутренних сред глаза, обусловленных наличием феномена иммунного отклонения, связанного с передней камерой (ACAID) и аваскулярным состоянием роговицы. Однако существует ряд состояний, при которых эти барьеры способны разрушаться, индуцируя развитие иммунного ответа, направленного против аллогенного трансплантированного материала [8]. У пациентов из группы «высокого риска» с васкуляризованным и/или воспаленным ложем происходит нарушение гематоофтальмического барьера, создающее условия для миграции иммунокомпетентных клеток мукозоассоциированной ткани региона глаза и инициации реакций иммунного реагирования в отношении аллоткани роговицы. Изучение клеточного компартмента системного и локального иммунитета, как ключевых звеньев в цепочке патофизиологических событий при возникновении реакции тканевой несовместимости и отторжения трансплантата является важной задачей современной иммуноофтальмологии и трансплантологии нативных тканей. Среди факторов риска значимые позиции занимают патология глаза, сопровождающаяся явлением неоваскуляризации роговичного ложа, вследствие дисбаланса проангиогенных и антиангиогенных факторов, наличие коморбидной сердечно-сосудистой, соматической, эндокринной патологии, тканевая несовместимость донора и реципиента по антигенам главного комплекса гистосовместимости, наличие аутоантител к структурам глаза, выполнение рекератопластики [7].
Иммунная реакция со стороны элементов мукозоассоциированной лимфоидной ткани глаза на появление аллоантигена включает процессы миграции и хоминга иммунных клеток в лимфоидные органы и зону воспаления, опосредуемые хемокинами, молекулами адгезии, провоспалительными цитокинами. Эффекторная клеточная реакция представлена разрушением трансплантата CD8+Т-лимфоцитами и реакцией замедленной гиперчувствительности, инициируемой CD4+Т-клетками [3, 7].
Клиническим итогом реакции отторжения является помутнение роговичного трансплантата, включающее локальные изменения в роговичной архитектонике с образованием эндотелиальных и эпителиальных линий отторжения, формирование субэпителиальных инфильтратов, преципитатов на эндотелии, а также тотальный отек трансплантата [14].
Осуществление динамического иммунологического мониторинга за изменением популяционного и субпопуляционного состава клеточного компартмента иммунной системы у реципиентов «высокого риска» важно исследовать как на этапе подготовки к проведению сквозной кератопластики, так и при наличии реакции отторжения трансплантата, что позволит выявить признаки иммунной дисфункции, что критически важно для принятия своевременных мер профилактики возникновения данного опасного осложнения, выбора оптимальной лечебной стратегии и долгосрочного прогнозирования состояния пациента. Особое внимание при определении субпопуляционного спектра иммуноцитов рекомендовано уделять количественному соотношению субпопуляций Т-хелперов, а именно Th1-, Th17-лимфоцитам, Т-регуляторным клеткам, двойным негативным Т-лимфоцитам (CD4-CD8-), играющим ключевые роли в процессе отторжения трансплантата [12].
Цель исследования – проведение сравнительного цитометрического анализа популяционного и субпопуляционного состава лимфоцитов периферической крови у пациентов «высокого риска» с наличием реакции отторжения трансплантата и при успешном исходе сквозной кератопластики аллотрансплантатом роговицы.
Материалы и методы
В клинико-иммунологическом исследовании участвовало 46 пациентов с патологией роговицы: васкуляризированные помутнения роговицы (ВПР) в исходе бактериального и вирусного кератита (n = 24), ВПР посттравматические (n = 12), обширные язвенные дефекты с угрозой перфорации (n = 10), которым на базе регионального офтальмологического центра ГБУЗ «Челябинская областная клиническая больница» проводилась сквозная кератопластика с 2019 по 2023 год. Данные пациенты составили основную (1) группу исследования, представленную 46 пациентами в возрасте от 36 лет до 61 года (средний возраст – 49,1±5,4 года), 29 из которых мужчины (66%) и 17 женщины (34%). Всем пациентам проводилась сквозная кератопластика по стандартной технологии с наложением непрерывного кругового шва [2]. Осложнений во время операции не было. Время от забора донорского материала до операции составило от 18 до 24 часов. Во всех случаях использовался консервированный донорский материал. Консервация роговичных дисков проводилась в среде Борзенка–Мороз, при планировании кератопластики реципиентам подбор донора по системам MHC и AB0 не проводился. Забор крови для иммунологического исследования осуществлялся при обнаружении у пациентов признаков отторжения в пробирки Vacuette® с добавлением антикоагулянта K3EDTA (Greiner-Bio-One, Австрия). При отсутствии у пациентов в течение года реакции отторжения забор крови для иммунологического исследования производили по окончанию периода наблюдения (12 мес.).
Ретроспективно были сформированы две подгруппы: 1а подгруппу (n = 25) составили пациенты с зафиксированным клинически и инструментально эпизодом отторжения роговичного трансплантата на сроке от 2 до 8 месяцев после хирургического лечения, мужчин было 14 (56%), женщин – 11 (44%), средний возраст – 52,3±4,7 года; 1б подгруппу (n = 21) составили пациенты с прозрачным приживлением трансплантата роговицы, мужчин было 15 (71%), женщин – 6 (29%), средний возраст 48,4±5,2 года). Критериями исключения из исследования явились: диагностированные аутоиммунные патологии, состояния, связанные с нарушением функции иммунной системы, инфекционные заболевания (как острые, так и хронические) в период обострения, наличие злокачественных новообразований, а также сопутствующие заболевания глаз, включая сосудистые, воспалительные и дегенеративные изменения сетчатки и зрительного нерва. Наличие хронических болезней в стадии ремиссии в обеих подгруппах были схожими, что соответствует условиям исследования и обеспечивает сравнимость данных групп. Так, в 1а и 1б подгруппах коморбидная патология распределилась следующим образом: гипертоническая болезнь I, II степени – 10 (40%) и 8 (38%) случаев; сахарный диабет 2-го типа – 8 (32%) и 11 (52%) случаев; бронхиальная астма – 5 (20%) и 4 (19%) случая; хроническая обструктивная болезнь легких – 3 (12%) и 5 (24%) случаев; хронический гастрит – 15 (60%) и 11 (52%) случаев; аллергические заболевания – 4 (16%) и 6 (29%) случаев, соответственно. Контрольная группа состояла из 21 здорового добровольца (13 мужчин, 8 женщин) без офтальмологической и соматической патологии, средний возраст 51,8±2,6 года. Исследование одобрено решением Этического комитета ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России (протоколы № 8 от 02.10.2019; № 7 от 05.11.2024).
Для проведения иммунологического анализа забор венозной крови осуществляли из локтевой вены в утреннее время, строго натощак. Количественное определение популяционного и субпопуляционного состава лимфоцитов выполняли методом проточной цитометрии с использованием цитофлюориметра Navios (Beckman Coulter, США) по стандартизованной технологии оценки лимфоцитарного звена иммунитета [1]. Для гейтирования лимфоцитов применяли панлейкоцитарные маркеры CD45+ и CD46+. В ходе исследования анализировали следующие субпопуляции лимфоцитов: маркеры CD45+ и CD46+, CD3+ (Т-лимфоциты), CD45+ и CD46+, CD3+, CD4+ (Т- хелперы), CD45+ и CD46+, CD3+, CD8+ (цитотоксические Т-лимфоциты), CD45+ и CD46+, CD3+, CD56+ (TNK-клетки) CD45+ и CD46+, CD3-, CD56+ (натуральные киллеры), CD45+ и CD46+, CD3-, CD19+, CD5+ (В-лимфоциты), CD45+ и CD46+, CD3+, CD4+, CD25+ (активированные хелперы, ранняя активация лимфоцитов), CD45+ и CD46+, CD3+, HLA-DR (активированные Т-лимфоциты – поздняя активация лимфоцитов).
Для статистической обработки материала использовали пакет прикладных программ Statistica for Windows vers. 10.0 (StatSoft Inc., США), с определением медианы и интерквартильного размаха – Me (Q0,25-Q0,75). Значимость различий оценивали согласно критериям непараметрической статистики (U-test Манна–Уитни), статистически значимыми считались изменения при p < 0,05.
Результаты и обсуждение
Полученные данные проведенных исследований клеточного компартмента иммунной системы у пациентов, перенесших сквозную кератопластику, представлены в таблице 1.
Таблица 1. Характеристика популяционного и субпопуляционного состава лимфоцитов периферической крови пациентов, перенесших сквозную кератопластику, Me (Q0,25-Q0,75)
Table 1. Characteristics of the population and subpopulation composition of peripheral blood lymphocytes of patients who underwent end-to-end keratoplasty, Me (Q0.25-Q0.75)
Параметр Parameter | Основная группа Main group n = 46 | Контрольная группа Control n = 21 | |
Подгруппа 1а Subgroup 1a n = 25 | Подгруппа 1б Subgroup 1b n = 21 | ||
Общее количество T-лимфоцитов (CD45+CD3+CD19-), отн., % Total number of T lymphocytes (CD46+CD3+CD19-), relative, % | 81,2 (78,7-86,7)*, ** | 74,3 (72,1-76,7) | 74,6 (72,9-75,6) |
Общее количество Т-лимфоцитов (CD45+CD3+CD19-), абс., 106 кл/л Total number of T lymphocytes (CD46+CD3+CD19-), abs., 106 cells/L | 2301,1 (2040-2578)*, ** | 1783,6 (1580-1992) | 1611,4 (1410-1835) |
T-хелперы (CD45+CD3+CD4+), отн., % T helpers (CD45+CD3+CD4+), relative, % | 36,9 (36,4-41,1) | 33,2 (31,2-37,0) | 31,3 (24,7-33,7) |
T-хелперы (CD45+CD3+CD4+), абс., 106 кл/л T helpers (CD45+CD3+CD4+), abs., 106 cells/L | 881,6 (861,1-1025,8)*, ** | 748,5 (621,2-849,1) | 751,4 (621,2-849,1) |
T-цитотоксические (CD45+CD3+CD8+), отн., % T cytotoxic (CD45+CD3+CD8+), relative, % | 29,8 (25,4-29,1) | 26,3 (23,7-29,3) | 25,6 (18,9-29,1) |
T-цитотоксические (CD45+CD3+ CD8+), 106 кл/л T cytotoxic (CD45+CD3+CD8+), 106 cells/L | 556,8 (380,2-649,1) | 540,2 (429,1-652,3) | 514,2 (472,3-572,3) |
Соотношение CD4+/CD8+, 109/л CD4+/CD8+ ratio, 109/L | 0,98 (0,88-1,19) | 1,08 (0,83-1,31) | 1,06 (0,81-1,30) |
TNK-лимфоциты (CD46+CD3+CD16+CD56+), отн., % TNK lymphocytes (CD46+CD3+CD16+CD56+), relative, % | 2,21 (1,52-3,24)*, ** | 1,75 (1,57-2,18) | 1,82 (1,57-2,18) |
TNK-лимфоциты (CD46+CD3+CD16+CD56+), абс., 106 кл/л TNK lymphocytes (CD46+CD3+CD16+CD56+), abs., 106 cells/l | 65,5 (57,2-75,4) | 62,4 (54,1-71,4) | 63,3 (59,7-68,6) |
NK-клетки (CD45+CD3-CD16+CD56+), отн., % NK cells (CD45+CD3-CD16+CD56+), relative, % | 8,4 (7,6-9,3) | 8,1 (7,3-8,9) | 8,2 (7,5-8,9) |
NK-клетки (CD45+CD3-CD16+CD56+), абс., 106 кл/л NK cells (CD45+CD3-CD16+CD56+), abs., 106 cells/L | 246,2 (222,9-277,5) | 233,2 (211,9-255,7) | 236,2 (217,9-257,7) |
T-лимфоциты CD45+CD3+CD4+CD25+ (ранняя активация), отн., % T lymphocytes CD45+CD3+CD4+CD25+ (early activation), relative, % | 17,1 (12,5-20,2)*, ** | 13,1 (9,5-15,2) | 10,2 (8,6-11,3) |
T-лимфоциты CD45+CD3+CD4+CD25+ (ранняя активация), 109 кл/л T lymphocytes CD45+CD3+CD4+CD25+ (early activation), 109 cells/L | 144,7 (121,4-162,3)*, ** | 110,3 (94,6-132,4) | 87,8 (68,8-102,6) |
T-лимфоциты CD45+CD3+CD4+HLA-DR+ (поздняя активация), отн., % T lymphocytes CD45+CD3+CD4+HLA-DR+ (late activation), relative, % | 3,34 (1,95-4,44)*, ** | 1,71 (1,15-3,22) | 1,36 (0,95-1,54) |
T-лимфоциты CD45+CD3+CD4+HLA-DR+ (поздняя активация), 106 кл/л T lymphocytes CD45+CD3+CD4+HLA-DR+ (late activation), 106 cells/L | 91,2 (80,1-111,3)*, ** | 52,3 (41,6-67,3) | 44,4 (37,2-53,5) |
Т-регуляторные клетки (CD45R0+CD3+CD4+CD25+CD127-), отн., % T regulatory cells (CD 45R0+CD3+CD4+CD25+CD127-), relative, % | 3,5 (2,6-4,7)*, ** | 2,4 (2,0-2,6) | 2,1 (1,9-2,3) |
Т-регуляторные клетки (CD45R0+CD3+CD4+CD25+CD127-),106 кл/л T regulatory cells (CD45R0+CD3+CD4+CD25+CD127-), 106 cells/L | 54,1 (52,1-58,4)*, ** | 49,3 (38,3-51,5) | 48,5 (40,6-50,4) |
Т-регуляторные клетки поздняя активация (CD45R0+CD3+CD4+CD25+CD127-HLA-DR+), отн., % T regulatory cells late activation (CD45R0+CD3+CD4+CD25+CD127-HLA-DR+), relative, % | 2,63 (1,92-3,29)*, ** | 1,78 (1,40-1,91) | 1,34 (0,95-1,62) |
Т-регуляторные клетки поздняя активация (CD45R0+CD3+CD4+CD25+CD127-HLA-DR+), абс., 106 кл/л T regulatory cells late activation (CD45R0+CD3+CD4+CD25+CD127-HLA-DR+), abs., 106 cells/L | 13,5 (11,2-15,4)*, ** | 11,13 (9,12-13,30) | 10,3 (9,4-11,8) |
Общее количество B-лимфоцитов (CD45+CD3-CD19+), отн., % Total number of B lymphocytes (CD45+CD3-CD19+), relative, % | 10,2 (9,4-10,5) | 9,7 (9,0-9,9) | 9,4 (9,0-9,7) |
Общее количество B-лимфоцитов (CD45+CD3-CD19+), 106 кл/л Total number of B lymphocytes (CD45+CD3-CD19+), 106 cells/L | 329,5 (301,2-362,2) | 321,5 (291,2-353,2) | 316,6 (279,2-318,2) |
Примечание. * – значимые (р < 0,05) различия с контрольной группой; ** – с подгруппой 1б.
Note. *, significant (p < 0.05) differences with the control group; **, with subgroup 1b.
Результаты исследования демонстрируют существенные различия в популяционном и субпопуляционном составе лимфоцитов между исследуемыми группами.
В подгруппе 1а зафиксировано значительное увеличение общего числа T-лимфоцитов (CD45+CD3+CD19-) в сравнении с подгруппой 1б и контрольной группой. В подгруппе с эпизодом отторжения трансплантата также было отмечено значительное повышение как относительного, так и абсолютного числа T-хелперов (CD45+CD3+CD4+). Аналогичная картина наблюдалась для T-цитотоксических лимфоцитов (CD45+CD3+CD8+). Напротив, соотношение CD4+/CD8+ в подгруппе 1а оказалось ниже по сравнению с подгруппой прозрачного приживления и контрольной группой.
Относительное и абсолютное количество TNK-лимфоцитов (CD46+CD3+CD16+CD56+) и NK-клеток (CD45+CD3-CD16+CD56+) не выявило значимых различий между группами. Число TNK-лимфоцитов сопоставимо во всех исследуемых группах. Точно так же количество NK-клеток в подгруппе отторжения не отличалось статистически значимо от других групп.
В подгруппе 1а зарегистрировано значительное увеличение как относительного, так и абсолютного числа активированных T-лимфоцитов. Количество T-лимфоцитов с маркерами ранней активации (CD45+CD3+CD4+CD25+) оказалось выше, чем в подгруппе 1б и в контрольной группе. Для T-лимфоцитов с маркерами поздней активации (CD45+CD3+CD4+HLA-DR+) оба количественных показателя в подгруппе 1а значительно превысили подгруппы 1б и контрольную группу.
Относительное и абсолютное количество T-регуляторных клеток (CD45R0+CD3+CD4+ CD25+CD127-) оказалось несколько выше в подгруппе 1а. Для T-регуляторных клеток с поздней активацией (CD45R0+CD3+CD4+CD25+CD127-HLA-DR+) также наблюдалось увеличение в подгруппе 1а, превышающее показатели подгруппы 1б и контрольной группы.
Общее количество B-лимфоцитов (CD45+CD3-CD19+) не продемонстрировало значимых различий между группами.
Результаты исследования показали значительное увеличение общего количества T-лимфоцитов (CD45+CD3+CD19-), субпопуляций с маркерами ранней и поздней позитивной активации (CD4+CD25+, CD4+HLADR+) у пациентов с реакцией отторжения роговичного трансплантата, что согласуется с современными представлениями о ключевой роли T-клеток, преимущественно CD4+T-хелперов и CD8+ цитотоксических T-клеток, в механизмах отторжения трансплантата [15]. Известно, что при трансплантации роговицы донорская ткань экспрессирует чужеродные антигены, которые распознаются T-клетками реципиента через взаимодействие с молекулами главного комплекса гистосовместимости (MHC) класса I и II типа на антиген-презентирующих клетках (APC), таких как дендритные клетки и макрофаги. T-хелперы идентифицируют антигены, представленные MHC класса II, в то время как CD8+T-клетки взаимодействуют с антигенами MHC класса I. Прочность связи придают ко-стимулирующие молекулы CD28 на T-лимфоцитах и B7 на APC [11, 15].
Активированные CD4+T-хелперы в зависимости от цитокинового окружения дифференцируются в Th1, Th2, Th17 или Treg. При реакции отторжения преобладает дифференцировка в Th1- и Th17-клетки, секретирующие провоспалительные цитокины IFNγ, IL-2, TNFα и IL-17. Данные цитокины усиливают воспалительный ответ, стимулируют рекрутинг и активацию неспецифических клеточных популяций: макрофагов, нейтрофилов, NK-клеток, механизм действия которых основан на индукции каскадной реакции, приводящей к высвобождению различных медиаторов, среди которых преобладают активные формы кислорода и протеазы. Суммарная активность медиаторов воспаления вызывает повреждение эндотелия роговицы и стромы, а результирующими эффектами становятся потеря прозрачности трансплантата и клинические проявления реакции отторжения [15].
Увеличение количества CD8+Т-клеток у пациентов с отторжением трансплантата в подгруппе 1а может указывать на их роль в патогенезе отторжения. После активации CD8+Т-лимфоциты приобретают цитотоксические свойства, выделяя перфорин и гранзимы, которые индуцируют апоптоз клеток-мишеней. Помимо прямой цитотоксической активности, активированные CD8+ лимфоциты способны вырабатывать значительное количество провоспалительных цитокинов, в частности IFNγ способствует усилению экспрессии молекул главного комплекса гистосовместимости, что обеспечивает более эффективное презентирование аллоантигенов [6].
Полученные нами данные о концентрациях CD4+, CD8+T-клеток согласуются с результатами экспериментальных исследований, где в моделях отторжения роговицы в периферической крови мышей наблюдалось значительное увеличение CD4+, CD8+ – популяций Т-лимфоцитов. F. Boisgérault и соавт. (2001) экспериментально показали, что у мышей, демонстрирующих реакцию отторжения роговичного трансплантата, наблюдался мощный ответ T-клеток, связанный с активацией аллореактивных клонов CD4+Т-лимфоцитов, продуцирующих интерлейкин-2 (IL-2), и аллореактивных CD8+T-клеток, продуцирующих интерферон-γ IFNγ [5].
Известно, что на ранних этапах активации Т-клетки экспрессируют рецепторы к IL-2 – маркеру ранней активации лимфоцитов, максимальная плотность рецепторов которого появляется через несколько часов после их взаимодействия с антигеном [9]. По мере развития иммунного ответа Т-клетки экспрессируют дополнительные маркеры активации, включая антиген главного комплекса гистосовместимости II класса HLA-DR, и приобретают фенотип CD45+CD3+CD4+HLA- DR+. Экспрессия HLA- DR свидетельствует о переходе в более позднюю стадию активации и связана с установлением высокой функциональной активности клеток. HLA-DR+Т-клетки обеспечивают секрецию широкого спектра провоспалительных цитокинов, таких как IFNγ, TNFα и IL-2, усиливая локальное воздействие и непосредственно участвуя в повреждении ткани трансплантата, тем самым подтверждая статус HLA-DR+ Т-клеток в качестве ключевых эффекторов в реакции отторжения [13].
Ряд исследований подтверждает, что дисбаланс в соотношении CD4+/CD8+Т-лимфоцитов является важным маркером иммунной дисрегуляции и тесно связан с повышенным риском отторжения трансплантата [13, 14].
У пациентов в подгруппе 1а нами выявлено снижение соотношения CD4+/CD8+ менее 1,0 на 109/л, что наблюдается в случае преобладания CD8+Т-клеток, которые играют ведущую роль в отторжении клеток трансплантата.
Кроме того, зафиксированное значимое увеличение количества T-регуляторных клеток (Treg, фенотип CD45R0+CD3+CD4+CD25+CD127-) у лиц этой же подгруппы может свидетельствовать о необходимости ограничения избыточного иммунного реагирования в отношении аллоткани. Именно T-регуляторные клетки представляют собой специализированную субпопуляцию CD4+T-клеток, способную подавлять активацию и пролиферацию эффекторных T-клеток (Th1, Th17, CD8+T-клеток) через различные механизмы, включая секрецию иммуносупрессивных цитокинов (TGF-β, IL-10), прямую клеточную ингибицию и конкуренцию за IL-2 [4].
Примечательно, что проведенное нами исследование не выявило существенных различий в числе TNK- и NK-клеток среди исследуемых групп пациентов, что позволяет сделать предположение о незначительном вкладе данной популяции иммуноцитов в патогенез отторжения роговичного трансплантата после пересадки. Об этом убедительно свидетельствуют данные других исследований, показывающие более высокую активность NK-клеток в реакциях отторжения при пересадке твердых органов, например, почек или печени, чем при трансплантации роговицы [7, 10].
Кроме того, не выявлено значительных колебаний уровня B-лимфоцитов у пациентов разных групп в позднем послеоперационном периоде, где преобладают клеточные иммунные реакции. Известно, что гуморальные факторы чаще опосредуют развитие ранних (острых и сверхострых) антителозависимых реакций гиперчувствительности немедленного типа, обусловленных наличием антител против аллоантигенов трансплантата, включая молекулы MHC класса I и II, а также не-HLA антигены. Антитела способны вызывать повреждение эндотелия трансплантата посредством включения механизмов комплемент-зависимой цитотоксичности, а также путем опсонизации нейтрофилов и макрофагов с последующим развитием воспалительных изменений в тканях роговичного ложа [6, 10].
Выводы
- Проведенный анализ выявил значимое увеличение общего количества T-лимфоцитов, Т-хелперов, Т-цитотоксических клеток, Т-лимфоцитов с маркерами ранней и поздней активации у пациентов с реакцией отторжения трансплантата. T-лимфоциты выступают основными эффекторными клетками адаптивного иммунитета, распознающими чужеродные антигены аллотрансплантата через взаимодействие с молекулами главного комплекса гистосовместимости с последующим запуском реакций иммунного реагирования, а также прямое повреждение клеток трансплантата за счет цитотоксических механизмов.
- Изменения в клеточном иммунном составе периферической крови демонстрируют системный характер реакции отторжения нативного аллотрансплантата роговицы и диктуют необходимость углубленного изучения T-клеточного ответа для понимания патогенеза поздних клеточных реакций.
- Цитометрический анализ позволяет выявлять ранние признаки иммунной активации, связанной с отторжением, что открывает новые возможности для разработки персонализированных подходов в терапии.
About the authors
A. A. Kuznetzov
Chelyabinsk Regional Clinical Hospital
Email: highvision@bk.ru
PhD (Medicine), Head, Ophthalmology Center
Russian Federation, ChelyabinskA. M. Bystrov
Chelyabinsk Regional Clinical Hospital; South Ural State Medical University
Author for correspondence.
Email: highvision@bk.ru
Clinical Doctor, Ophthalmology Department No. 1, Senior Laboratory Assistant, Medical Rehabilitation Department
Russian Federation, Chelyabinsk; ChelyabinskE. V. Davydova
Chelyabinsk Regional Clinical Hospital; South Ural State Medical University
Email: highvision@bk.ru
PhD, MD (Medicine), Associate Professor, Head, Department of Early Medical Rehabilitation, Professor, Department of Medical Rehabilitation and Sports Medicine
Russian Federation, Chelyabinsk; ChelyabinskM. V. Chereshneva
Institute of Immunology and Physiology, Ural Branch, Russian Academy of Sciences
Email: highvision@bk.ru
PhD, MD (Medicine), Professor, Honored Scientist of the Russian Federation, Chief Researcher, Laboratory of Immunophysiology and Immunopharmacology
Russian Federation, EkaterinburgT. V. Gavrilova
E. Wagner Perm State Medical University
Email: highvision@bk.ru
PhD, MD (Medicine), Professor, Corresponding Member, Russian Academy of Sciences, Head, Department of Ophthalmology
Russian Federation, PermReferences
- Зурочка А.В., Хайдуков С.В., Кудрявцев И.В., Черешнев В.А. Проточная цитометрия в биомедицинских исследованиях. Екатеринбург: РИО УрО РАН, 2018. 720 с. [Zurochka A.V., Khaidukov S.V., Kudryavtsev I.V., Chereshnev V.A. Flow cytometry in biomedical research]. Ekaterinburg: RIO, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, 2018. 720 p.
- Мороз З.И. Кератопластика и кератопротезирование. В: Аветисов С.Э., Егоров Е.А., Мошетова Л.К., Нероев В.В., Тахчиди Х.П. (ред.). Офтальмология: национальное руководство. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. С. 472-474. [Moroz Z.I. Keratoplasty and keratoprosthetics. In: Avetisov S.E., Egorov E.A., Moshetova L.K., Neroev V.V., Takhchidi Kh.P. (eds.). Ophthalmology: National Guidelines]. Moscow: GEOTAR-Media, 2008, pp. 472-474.
- Alio J.L., Montesel A., El Sayyad F., Barraquer R.I., Arnalich-Montiel F., Del Barrio J.L.A. Corneal graft failure: an update. Br. J. Ophthalmol., 2021, Vol. 105, no. 8, pp. 1049-1058.
- Avunduk A.M., Avunduk M.C., Tekelioğlu Y., Kapıcıoğlu Z. CD4+ T cell/CD8+ T cell ratio in the anterior chamber of the eye after penetrating injury and its comparison with normal aqueous samples. Jpn. J. Ophthalmol., 1998, Vol. 42, no. 3, pp. 204-207.
- Boisgéraul F., Liu Y., Anosova N., Ehrlich E., Dana M.R., Benichou G. Role of CD4+ and CD8+ T cells in allorecognition: lessons from corneal transplantation. J. Immunol., 2001, Vol. 167, no. 4, pp. 1891-1899.
- Chi H., Wei C., Ma L., Yu Y., Zhang T., Shi W. The ocular immunological alterations in the process of high-risk corneal transplantation rejection. Exp. Eye Res., 2024, Vol. 245, 109971. doi: 10.1016/j.exer.2024.109971.
- Maharana P.K., Mandal S., Kaweri L., Sahay P., Lata S., Asif M.I., Sharma N. Immunopathogenesis of corneal graft rejection. Indian J. Ophthalmol., 2023, Vol. 71, no. 5, pp. 1733-1738.
- Mandal S., Maharana P.K., Kaweri L., Asif M.I., Nagpal R., Sharma N. Management and prevention of corneal graft rejection. Indian J. Ophthalmol., 2023, Vol. 71, no. 9, pp. 3149-3159.
- Owen D.L., Mahmud S.A., Vang K.B., Kelly R.M., Blazar B.R., Smith K.A., Farrar M.A. Identification of cellular sources of IL-2 needed for regulatory T cell development and homeostasis. J. Immunol., 2018, Vol. 200, no. 12, pp. 3926-3933
- Sakowska J., Glasner P., Dukat-Mazurek A., Rydz A., Zieliński M., Pellowska I., Trzonkowski P. Local T cell infiltrates are predominantly associated with corneal allograft rejection. Transpl. Immunol., 2023, Vol. 79, 101852. doi: 10.1016/j.trim.2023.101852.
- Scarabosio A., Surico P.L., Tereshenko V., Singh R.B., Salati C., Spadea L., Zeppieri M. Whole-eye transplantation: Current challenges and future perspectives. World J. Transplant., 2024, Vol. 14, no. 2, 95009. doi: 10.5500/wjt.v14.i2.95009.
- Vabres B., Pleyer U., Hjortdal J., Murphy C.C., Armitage W.J., Imrie L., Degauque N. Corneal graft rejection: is it reflected in peripheral immune cells? Results of a prospective multicenter study (VISICORT). Transplantation, 2025, Vol. 109, no. 5, pp. 794-805.
- Völker-Dieben H.J., Claas F.H., Schreuder G.M.T., Schipper R.F., Pels E., Persijn G.G., D’Amaro J. Beneficial effect of HLA-DR matching on the survival of corneal Allografts. Transplantation, 2000, Vol. 70, no. 4, pp. 640-648.
- Yin J. Advances in corneal graft rejection. Curr. Opin. Ophthalmol., 2021, Vol. 32, no. 4, pp. 331-337.
- Zhu J., Inomata T., Di Zazzo A., Kitazawa K., Okumura Y., Coassin M., Murakami A. Role of immune cell diversity and heterogeneity in corneal graft survival: A systematic review and meta-analysis. J. Clin. Med., 2021, Vol. 10, no. 20, 4667. doi: 10.3390/jcm10204667.
Supplementary files